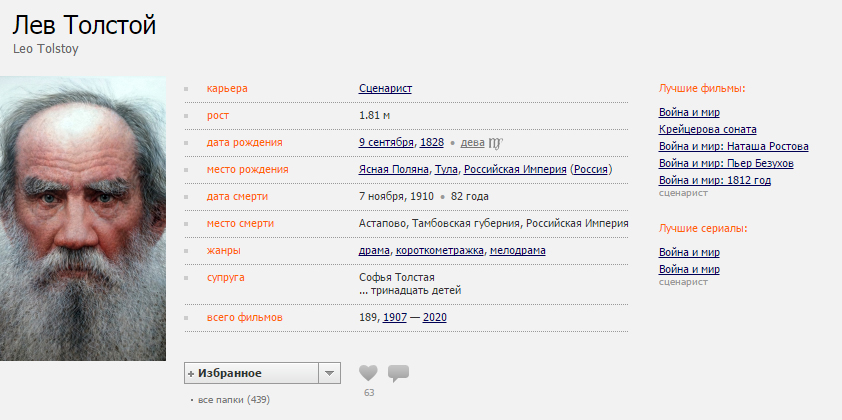Контекст одного чеховского рассказа
А. М. Турков в своей монографии цитирует трагическую историю, о которой сообщал в год рождения А. П. Чехова журнал «Колокол»:
В 1849 году крестьяне бывшего Аракчеевского имения в Новгородской губернии косили сено невдалеке от железной дороги. При работниках был пятнадцатилетний мальчик Василий Серков... из деревни Хотилово. Он, гуляя, подошел к самой дороге и видел, как перед ним промчался поезд. «Сем-ка, — подумал он, — что-то будет, как наложить камней на чугунную колею? опрокинутся ил эти большие телеги, или нет». Сглупа подумал, да сейчас же и за дело: носит камни и кладет их на рельсы. Солдат придорожный застал его на этом...
Колокол. 15 сентября 1860 года
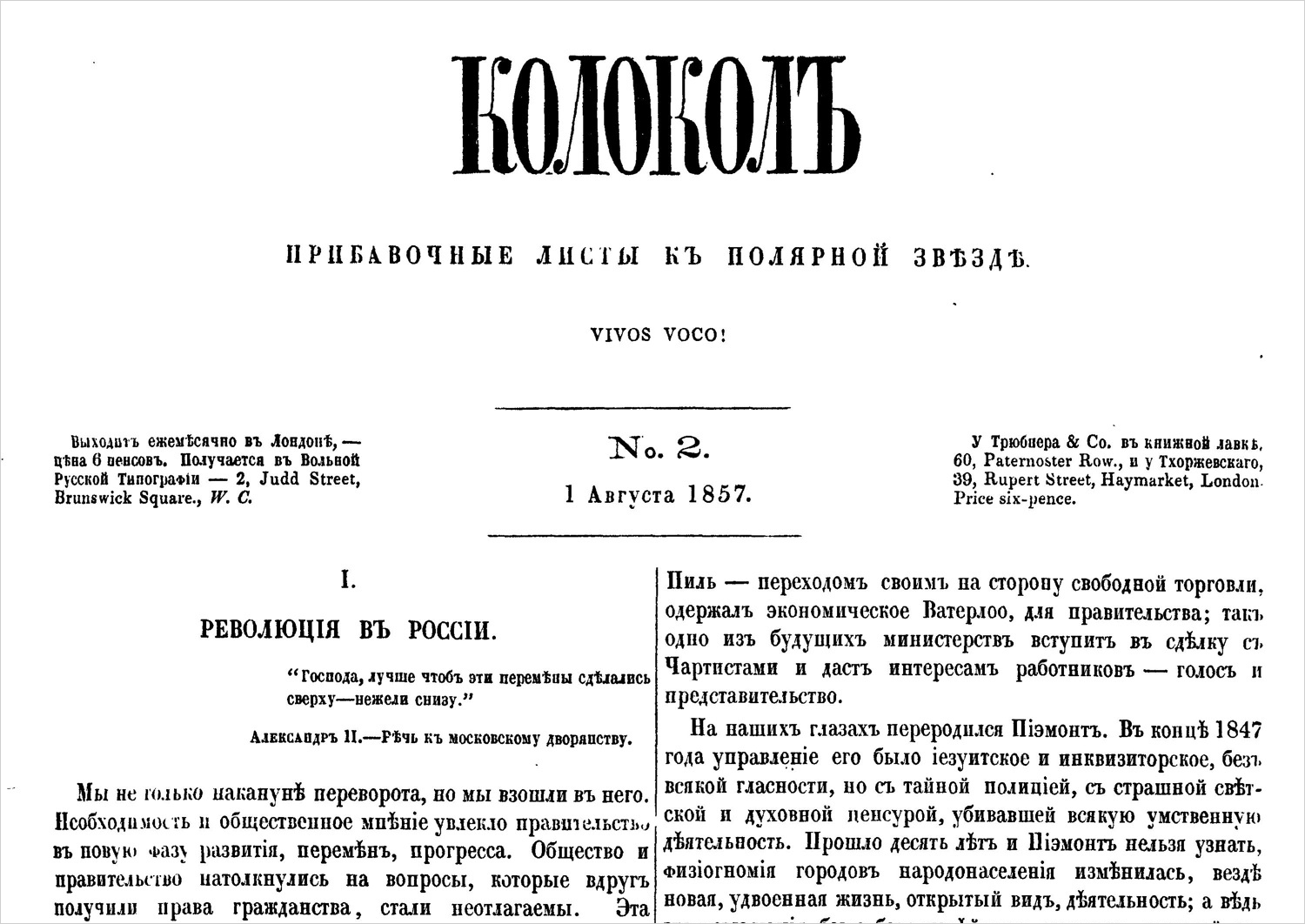
Интересно, что эта история случилась в тех же местах, где проезжал герой Радищева в «Путешествии из Петербурга в Москву» в главе «Хотилов». Именно там он мечтал об уничтожении крепостного рабства:
Исчезни варварское обыкновение, разрушься власть тигров!
После случая, описанного в «Колоколе», пройдет 38 лет, и Чехов напишет своего «Злоумышленника». В этом рассказе Денису Григорьеву, видимо, будет уготована та же судьба, что и мальчику Серкову.
Л. Толстой высоко оценил «Злоумышленника»:
«Злоумышленник» — превосходный рассказ, — сказал Л. Н. — Я его раз сто читал.
Литературное наследство. Т. 68. М.: Изд-во АН СССР, 1960. С. 874.
Возможно, именно поэтому Толстой включил в «Анну Каренину» похожий мотив. Константин Левин в споре с братом скажет:
...быть присяжным и судить мужика, укравшего ветчину, и шесть часов слушать всякий вздор, который мелют защитники и прокуроры, и как председатель спрашивает у моего старика Алешки-дурачка: «Признаете ли вы, господин подсудимый, факт похищения ветчины?» — «Ась?»
Константин Левин уже отвлекся, стал представлять председателя и Алешку-дурачка...